Разработка, а также внедрение в практику литий-ионных батарей, требует специальных государственных программ поддержки, которые существуют во многих странах. Литий-ионные аккумуляторы дороже аккумуляторов других типов, но они служат в несколько раз дольше, могут запасать больше энергии на единицу массы и объема, удобны в эксплуатации. Во многих странах существует система поддержки таких технологий: гранты ученым-разработчикам, субсидии и льготы производителям электротранспорта и систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах, льготы при покупке электромобилей и стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Еще в 2008 году в Правительство США выделило 2,4 миллиарда долларов на гранты для исследований в области литий-ионных батарей и продолжает ежегодно выделять субсидии на развитие отрасли. Правительство Германии инвестирует более 1,5 млрд евро в исследования и производство аккумуляторных батарей — ключевой элемент в планируемом переходе страны к чистой энергетике и мобильности. В результате отсутствия государственной поддержки в этом вопросе, число производителей литий-ионных аккумуляторов в России сейчас ограничено. Завод «Лиотех» — это практически единственное предприятие, которое массово производит литий-ионные аккумуляторы для гражданских рынков.
 Артем Абакумов, директор центра энергетических технологий «Сколтех», профессор, рассказал о рынке литий-ионных батарей в России, а также о барьерах, мешающих ему развиваться: «В России целый ряд научно-технических инициатив, Аэронет, Автонет, Маринет, Энерджинет, разработали дорожные карты, в которых прописаны технологические барьеры для накопителей. Самый большой интерес представляет карта НТИ «Автонет», в которой технологический барьер задан в качестве стандарта батарей для электротранспорта. По дорожной карте «Автонет», литий-ионная батарея предполагает преодоление расстояний электромобилем более 600 км без подзаряда, время подзаряда до 80% не более трех минут, количество циклов заряда не менее 20 000 и температурный режим -50 — +65. Если применить данный стандарт для батареи легкового электромобиля, например, Nissan Leaf, увидим несостыковки. Длина пробега должна вырасти с 160км до 600 км, то есть энергоемкость батареи увеличится с 20 кВтч до 112 кВтч. Такая батарея в домашней электросети должна будет заряжаться 17 часов, а значит потребитель даже за ночь не успеет подзарядить аккумуляторную батарею. На зарядной станции, если мы применим условие зарядки до 80% в течение 3-ех минут, при напряжении 480В, батарея должна заряжаться током 3,7 кА. Ресурс батареи по техническому барьеру должен быть 20 000 зарядно-разрядных циклов, соответственно, срок жизни батареи вырастает до более чем 110 лет. Я плохо себе представляю, как это все возможно. Вышесказанное доказывает, что не существуют одной единственной батареи для электротранспорта: батарей должно быть очень много, разных характеристик, на разные режимы эксплуатации и условий заряда. Если говорить о производстве батарей для электротранспорта — одним производством тут не обойтись. В России ситуация в этом плане удручающая, даже если учитывать производство литий-ионных батарей для электробусов. Производится совершенно ничтожное количество литий-ионных батарей для рынка. Технологии производства, конкурентоспособность литий-ионных батарей зависят в первую очередь от того, в каком объеме они будут производиться и в каком объеме подготовлен рынок. Причиной отсутствия производства литий-ионных аккумуляторов в России можно назвать малое количество научных групп организаций, работающих в этой области. Также, отсутствие интегрирующих проектов и реальной кооперации между научными группами, обладающими различными компетенциями и отсутствие государственной поддержки создания производства материалов в России для отечественных производителей. Необходимо существенно увеличить результативность научных исследований в данной области, организовывать конкурсы комплексных проектов,
Артем Абакумов, директор центра энергетических технологий «Сколтех», профессор, рассказал о рынке литий-ионных батарей в России, а также о барьерах, мешающих ему развиваться: «В России целый ряд научно-технических инициатив, Аэронет, Автонет, Маринет, Энерджинет, разработали дорожные карты, в которых прописаны технологические барьеры для накопителей. Самый большой интерес представляет карта НТИ «Автонет», в которой технологический барьер задан в качестве стандарта батарей для электротранспорта. По дорожной карте «Автонет», литий-ионная батарея предполагает преодоление расстояний электромобилем более 600 км без подзаряда, время подзаряда до 80% не более трех минут, количество циклов заряда не менее 20 000 и температурный режим -50 — +65. Если применить данный стандарт для батареи легкового электромобиля, например, Nissan Leaf, увидим несостыковки. Длина пробега должна вырасти с 160км до 600 км, то есть энергоемкость батареи увеличится с 20 кВтч до 112 кВтч. Такая батарея в домашней электросети должна будет заряжаться 17 часов, а значит потребитель даже за ночь не успеет подзарядить аккумуляторную батарею. На зарядной станции, если мы применим условие зарядки до 80% в течение 3-ех минут, при напряжении 480В, батарея должна заряжаться током 3,7 кА. Ресурс батареи по техническому барьеру должен быть 20 000 зарядно-разрядных циклов, соответственно, срок жизни батареи вырастает до более чем 110 лет. Я плохо себе представляю, как это все возможно. Вышесказанное доказывает, что не существуют одной единственной батареи для электротранспорта: батарей должно быть очень много, разных характеристик, на разные режимы эксплуатации и условий заряда. Если говорить о производстве батарей для электротранспорта — одним производством тут не обойтись. В России ситуация в этом плане удручающая, даже если учитывать производство литий-ионных батарей для электробусов. Производится совершенно ничтожное количество литий-ионных батарей для рынка. Технологии производства, конкурентоспособность литий-ионных батарей зависят в первую очередь от того, в каком объеме они будут производиться и в каком объеме подготовлен рынок. Причиной отсутствия производства литий-ионных аккумуляторов в России можно назвать малое количество научных групп организаций, работающих в этой области. Также, отсутствие интегрирующих проектов и реальной кооперации между научными группами, обладающими различными компетенциями и отсутствие государственной поддержки создания производства материалов в России для отечественных производителей. Необходимо существенно увеличить результативность научных исследований в данной области, организовывать конкурсы комплексных проектов,
результатом которых будет демонстрация прототипов, созданных исключительно на отечественных разработках и материалах. С помощью государственной поддержки можно организовать консорциум, объединяющий научные организации, производственные объединения и компании-потребители конечной продукции. Для создания конкурентных зарубежным отечественных серийных производств литий-ионных аккумуляторов необходима разработка отечественных технологий производства материалов, конкурентных зарубежным по цене и качеству. Толчком для разработки отечественных технологий материалов может быть государственная программа малотоннажной химии по производству материалов литий-ионных аккумуляторов для спецтехники. Необходимо повысить заинтересованность компаний, потенциальных крупных потребителей литий-ионных батарей в энергетике и на транспорте, в инвестициях в производство литий-ионных аккумуляторов и батарей».
К сожалению, быстро развивающийся в мире рынок литий-ионных батарей оставляет Россию на обочине. Россия не является существенным игроком этого рынка ни в мире, ни в своей стране, в основном обеспечивая потребности за счёт импорта. Россия является одним из мировых лидеров по добыче сырья, используемого в производстве материалов для ЛИА — никель, алюминий, медь, углеводороды, графит и литий.



 Что такое цифровой двойник в автомобилестроении и почему без него проектирование уже почти невозможно рассказал Алексей Боровков, руководитель инжинирингового центра (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического университета: «Начать разговор о цифровых двойниках следует с проекта первой реакции национального стандарта
Что такое цифровой двойник в автомобилестроении и почему без него проектирование уже почти невозможно рассказал Алексей Боровков, руководитель инжинирингового центра (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического университета: «Начать разговор о цифровых двойниках следует с проекта первой реакции национального стандарта 
 На прошлой неделе прошел круглый стол по обсуждению очередного расширения велоинфраструктуры в городе Москве. На мероприятии присутствовали муниципальные депутаты, представители органов власти и сервисов велодоставки — Яндекс. Еда, Delivery Club, общественники, велоактивисты, сотрудники ЦОДД и МАДИ. Инициатором дискуссии и организатором круглого стола выступил Яков Якубович, глава муниципального округа Тверской и председатель Совета муниципальных депутатов. Участники круглого стола обсудили широкий спектр вопросов: от текущего состояния велоинфраструктуры до культуры поведения велокурьеров служб доставки. Вопросам страхования ответственности велокурьеров уделили особое внимание. Так, если автомобиль считается средством повышенной опасности, то велосипед к таковым на регуляторном уровне сейчас не относится. Но передвигающийся на электросамокате со скоростью 50 км/час человек, безусловно, является участником дорожного движения со всеми вытекающими обязанностями. Яков Якубович выступил с небольшим докладом о возросшей роли велосипеда как транспорта жителей города: «На данный момент существует три ключевые проблемы, связанные с развитием велодвижения, — регулирование, культура и инфраструктура. Наличие велокурьеров на улицах Москвы стало обыденностью, и отрицать прогрессивный прирост курьеров, использующих для передвижения либо велосипед, либо средства индивидуальной мобильности, уже нельзя. Если раньше велосипед носил характер сезонного средства передвижения, то сегодня стало понятно, что ни зима, ни снегопад не причина отказаться от этого вида транспорта. По моему мнению, в правилах дорожного движения недостаточно четко рассмотрены случаи, когда велосипедисты могут двигаться по тротуару. Большой проблемой является и сложность контроля нарушений. Многие до сих пор не могут смириться с ростом числа велокурьеров на улицах Москвы и планами властей города по развитию велоинфраструкуры, объясняя это блажью узкого круга «велофанатиков». Все-таки объективно мы видим, что велосипед из сезонного развлечения превращается в средство передвижения и даже в орудие труда, а значит нужно учитывать этот фактор и предусмотреть, как сократить до минимума число конфликтных ситуаций и соблюсти интересы всех участников движения», — отметил Яков Якубович.
На прошлой неделе прошел круглый стол по обсуждению очередного расширения велоинфраструктуры в городе Москве. На мероприятии присутствовали муниципальные депутаты, представители органов власти и сервисов велодоставки — Яндекс. Еда, Delivery Club, общественники, велоактивисты, сотрудники ЦОДД и МАДИ. Инициатором дискуссии и организатором круглого стола выступил Яков Якубович, глава муниципального округа Тверской и председатель Совета муниципальных депутатов. Участники круглого стола обсудили широкий спектр вопросов: от текущего состояния велоинфраструктуры до культуры поведения велокурьеров служб доставки. Вопросам страхования ответственности велокурьеров уделили особое внимание. Так, если автомобиль считается средством повышенной опасности, то велосипед к таковым на регуляторном уровне сейчас не относится. Но передвигающийся на электросамокате со скоростью 50 км/час человек, безусловно, является участником дорожного движения со всеми вытекающими обязанностями. Яков Якубович выступил с небольшим докладом о возросшей роли велосипеда как транспорта жителей города: «На данный момент существует три ключевые проблемы, связанные с развитием велодвижения, — регулирование, культура и инфраструктура. Наличие велокурьеров на улицах Москвы стало обыденностью, и отрицать прогрессивный прирост курьеров, использующих для передвижения либо велосипед, либо средства индивидуальной мобильности, уже нельзя. Если раньше велосипед носил характер сезонного средства передвижения, то сегодня стало понятно, что ни зима, ни снегопад не причина отказаться от этого вида транспорта. По моему мнению, в правилах дорожного движения недостаточно четко рассмотрены случаи, когда велосипедисты могут двигаться по тротуару. Большой проблемой является и сложность контроля нарушений. Многие до сих пор не могут смириться с ростом числа велокурьеров на улицах Москвы и планами властей города по развитию велоинфраструкуры, объясняя это блажью узкого круга «велофанатиков». Все-таки объективно мы видим, что велосипед из сезонного развлечения превращается в средство передвижения и даже в орудие труда, а значит нужно учитывать этот фактор и предусмотреть, как сократить до минимума число конфликтных ситуаций и соблюсти интересы всех участников движения», — отметил Яков Якубович.  На вопрос, как реагировать в случае дорожных происшествий с велокурьером ответила представитель сервиса «Яндекс. Лавка» Анна Кузьмина: «Идентифицировать велокурьеров можно по номерам на их сумках. По вопросам обращений с жалобой на курьера можно обращаться на горячую линию или заполнить форму обращения на сайте и в приложении. С каждым кейсом мы разбираемся отдельно и можем идентифицировать всех курьеров, присоединенных к сервису. К сожалению, сейчас нет регламентированный политики для велосипедиста в случае ДТП. Мы с удовольствием будем сотрудничать в этом направлении с Департаментом транспорта Москвы и с ЦОДД». Участники обсуждения отметили, что добиться обратной связи об инциденте с велокурьером почти невозможно, а горячая линия служит своего рода прикрытием для реального решения проблемы. Больше, чем безопасность пешеходов или автомобилистов, представителей сервисов велодоставки волнует факт неразвитой велоинфраструктуры. По их мнению, необходимо предпринять комплекс мер для удобства велосипедистов: успокоить и изменить движение, выделить велополосы.
На вопрос, как реагировать в случае дорожных происшествий с велокурьером ответила представитель сервиса «Яндекс. Лавка» Анна Кузьмина: «Идентифицировать велокурьеров можно по номерам на их сумках. По вопросам обращений с жалобой на курьера можно обращаться на горячую линию или заполнить форму обращения на сайте и в приложении. С каждым кейсом мы разбираемся отдельно и можем идентифицировать всех курьеров, присоединенных к сервису. К сожалению, сейчас нет регламентированный политики для велосипедиста в случае ДТП. Мы с удовольствием будем сотрудничать в этом направлении с Департаментом транспорта Москвы и с ЦОДД». Участники обсуждения отметили, что добиться обратной связи об инциденте с велокурьером почти невозможно, а горячая линия служит своего рода прикрытием для реального решения проблемы. Больше, чем безопасность пешеходов или автомобилистов, представителей сервисов велодоставки волнует факт неразвитой велоинфраструктуры. По их мнению, необходимо предпринять комплекс мер для удобства велосипедистов: успокоить и изменить движение, выделить велополосы. 
 А о проблемах независимых автосервисов, связанных с ограниченным доступом к технической информации, рассказал эксперт в области автомобильных цифровых систем управления, преподаватель Школы диагностов «Инжекторкар», представитель Carmanscan в России Станислав Светозаров: «Большинство независимых станций технического обслуживания, поставщиков запчастей, сегодня не ощущает никакой опасности, хотя есть большая вероятность того, что в течение 5-10 лет многие отечественные компании, специализирующиеся на ремонте автомобилей, будут разорены. Это связано с тем, что автопроизводители ограничивают доступ к информации и диагностики для независимых сервисов во всем мире, в том числе, в России. Сегодня диагностическая информация уходит в онлайн, автомобили привязаны к серверу автопроизводителей, а обновление блоков управления происходит во время движения автомобиля. Водители даже не подозревают когда и что именно происходит. Независимые сервисы не могут получить доступ к данному каналу и, таким образом, огромное количество работ производиться не может, если НСТО не является авторизированным дилером. В Европе и США, где право на ремонт внедрено уже давно, представители НСТО заходят на определенные порталы, регистрируются как независимый сервис, платят 1,5 евро и получают токен на 90 минут для работы с конкретным автомобилем. Далее этот токен (код) вводится в приборы, которые требуют доступа и механики проводят все нужные манипуляции. Данная функция недоступна на территории России — большинство автопроизводителей ограничивает независимые сервисы в России в проведении 100%-ого ремонта. Более того, поскольку наличие OBD разъема необязательно в новых автомобилях, в западных странах автопроизводители стали внедрять удаленную диагностику — в автомобиле находится сим-карта и через мобильную сеть автопроизводитель не только получает информацию о том, где автомобиль, но и полную диагностическую информацию. Это уже начало работать в России, например, на автомобилях БМВ. На Мерседес невозможно поменять фары, не получив код в онлайн, а на Фольксваген невозможно установить новый компонент без снятия защиты компонента. Замену производят либо хакерскими методами, либо с помощью кода с портала, но порталы не действуют на территории России. Получается, что единственный вариант работать — нарушать закон, взламывая программное обеспечения, а легального пути не предоставлено. В США в 2012 году было введено право на ремонт, по которому все автопроизводители на территории США должны давать равные права к доступу информации, диагностике, ремонту автомобилей. Это право на ремонт закреплено в 17 штатах законодательно. В США данные инициативы педалируются не через исполнительную власть, а через представителей народа, которые инициируют принятие подобного закона. Право на ремонт частично закреплено в Молдавии, Турции, Южной Кореи и в других странах. В Евросоюзе право на ремонт появилось в 2008 году. Если в России ничего не изменится, то средним и крупным автосервисам не удержаться на рынке, будут разорены поставщики запчастей, прекратят работу поставщики оборудования, которое не омологировано. Есть альтернатива — бороться за право на ремонт, создать инициативную группу. Российский автосервисный бизнес — довольно разобщенное сообщество, но необходимо объединяться, работать с законодательной властью, потому что только она имеет возможность общаться с крупными автопроизводителями и «посадить их за стол переговоров». К сожалению, независимые сервисы не рассматриваются как социальная сила, которая может на что-либо повлиять. Ремонт у дилера в условиях монополии будет стоить больших денег, не говоря уже о другой проблеме — что будут делать владельцы бывших в употреблении автомобилей в отдаленных регионах России, где нет дилерского сервиса, где ремонт у дилера будут попросту не по карману?».
А о проблемах независимых автосервисов, связанных с ограниченным доступом к технической информации, рассказал эксперт в области автомобильных цифровых систем управления, преподаватель Школы диагностов «Инжекторкар», представитель Carmanscan в России Станислав Светозаров: «Большинство независимых станций технического обслуживания, поставщиков запчастей, сегодня не ощущает никакой опасности, хотя есть большая вероятность того, что в течение 5-10 лет многие отечественные компании, специализирующиеся на ремонте автомобилей, будут разорены. Это связано с тем, что автопроизводители ограничивают доступ к информации и диагностики для независимых сервисов во всем мире, в том числе, в России. Сегодня диагностическая информация уходит в онлайн, автомобили привязаны к серверу автопроизводителей, а обновление блоков управления происходит во время движения автомобиля. Водители даже не подозревают когда и что именно происходит. Независимые сервисы не могут получить доступ к данному каналу и, таким образом, огромное количество работ производиться не может, если НСТО не является авторизированным дилером. В Европе и США, где право на ремонт внедрено уже давно, представители НСТО заходят на определенные порталы, регистрируются как независимый сервис, платят 1,5 евро и получают токен на 90 минут для работы с конкретным автомобилем. Далее этот токен (код) вводится в приборы, которые требуют доступа и механики проводят все нужные манипуляции. Данная функция недоступна на территории России — большинство автопроизводителей ограничивает независимые сервисы в России в проведении 100%-ого ремонта. Более того, поскольку наличие OBD разъема необязательно в новых автомобилях, в западных странах автопроизводители стали внедрять удаленную диагностику — в автомобиле находится сим-карта и через мобильную сеть автопроизводитель не только получает информацию о том, где автомобиль, но и полную диагностическую информацию. Это уже начало работать в России, например, на автомобилях БМВ. На Мерседес невозможно поменять фары, не получив код в онлайн, а на Фольксваген невозможно установить новый компонент без снятия защиты компонента. Замену производят либо хакерскими методами, либо с помощью кода с портала, но порталы не действуют на территории России. Получается, что единственный вариант работать — нарушать закон, взламывая программное обеспечения, а легального пути не предоставлено. В США в 2012 году было введено право на ремонт, по которому все автопроизводители на территории США должны давать равные права к доступу информации, диагностике, ремонту автомобилей. Это право на ремонт закреплено в 17 штатах законодательно. В США данные инициативы педалируются не через исполнительную власть, а через представителей народа, которые инициируют принятие подобного закона. Право на ремонт частично закреплено в Молдавии, Турции, Южной Кореи и в других странах. В Евросоюзе право на ремонт появилось в 2008 году. Если в России ничего не изменится, то средним и крупным автосервисам не удержаться на рынке, будут разорены поставщики запчастей, прекратят работу поставщики оборудования, которое не омологировано. Есть альтернатива — бороться за право на ремонт, создать инициативную группу. Российский автосервисный бизнес — довольно разобщенное сообщество, но необходимо объединяться, работать с законодательной властью, потому что только она имеет возможность общаться с крупными автопроизводителями и «посадить их за стол переговоров». К сожалению, независимые сервисы не рассматриваются как социальная сила, которая может на что-либо повлиять. Ремонт у дилера в условиях монополии будет стоить больших денег, не говоря уже о другой проблеме — что будут делать владельцы бывших в употреблении автомобилей в отдаленных регионах России, где нет дилерского сервиса, где ремонт у дилера будут попросту не по карману?». 
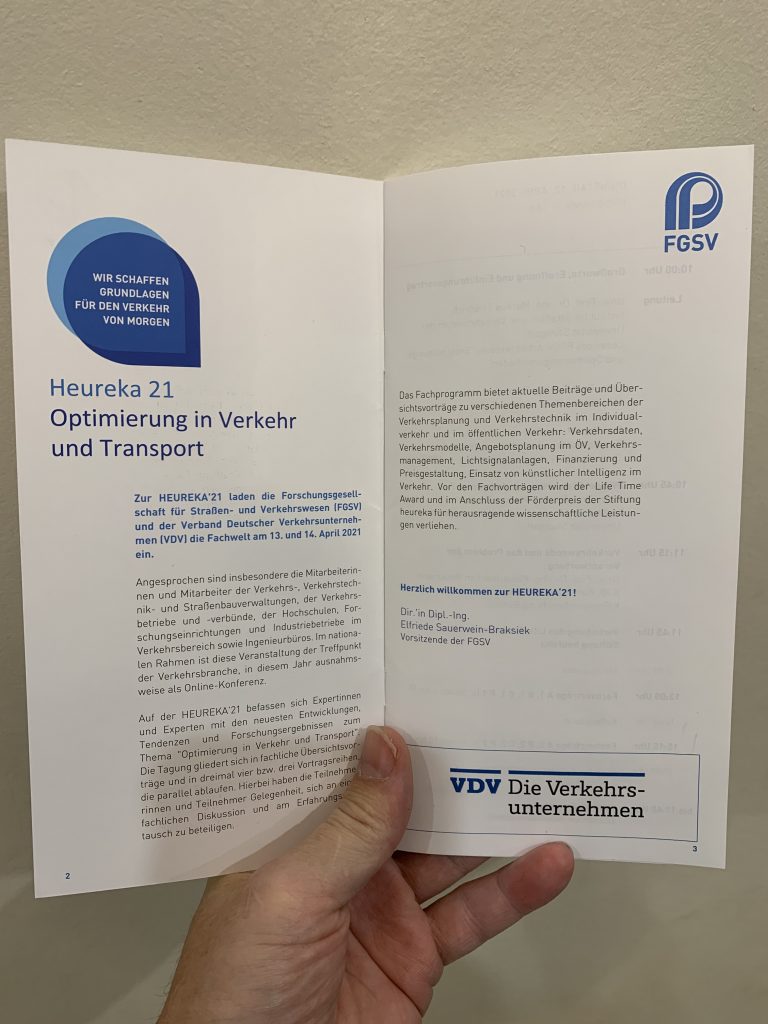
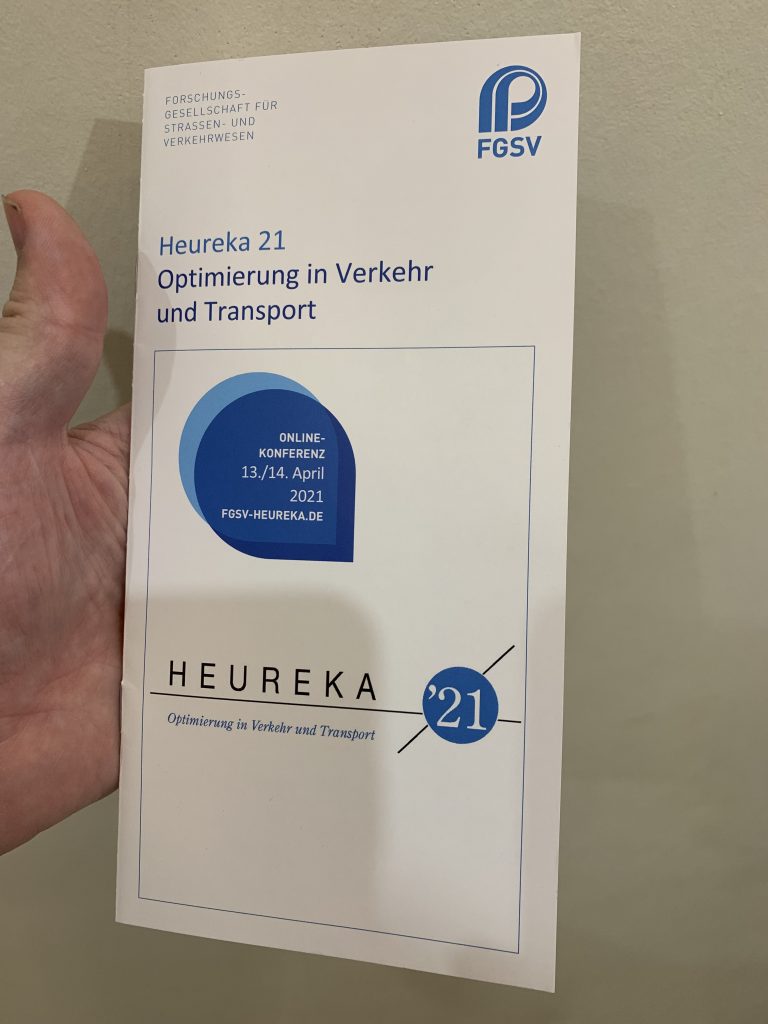
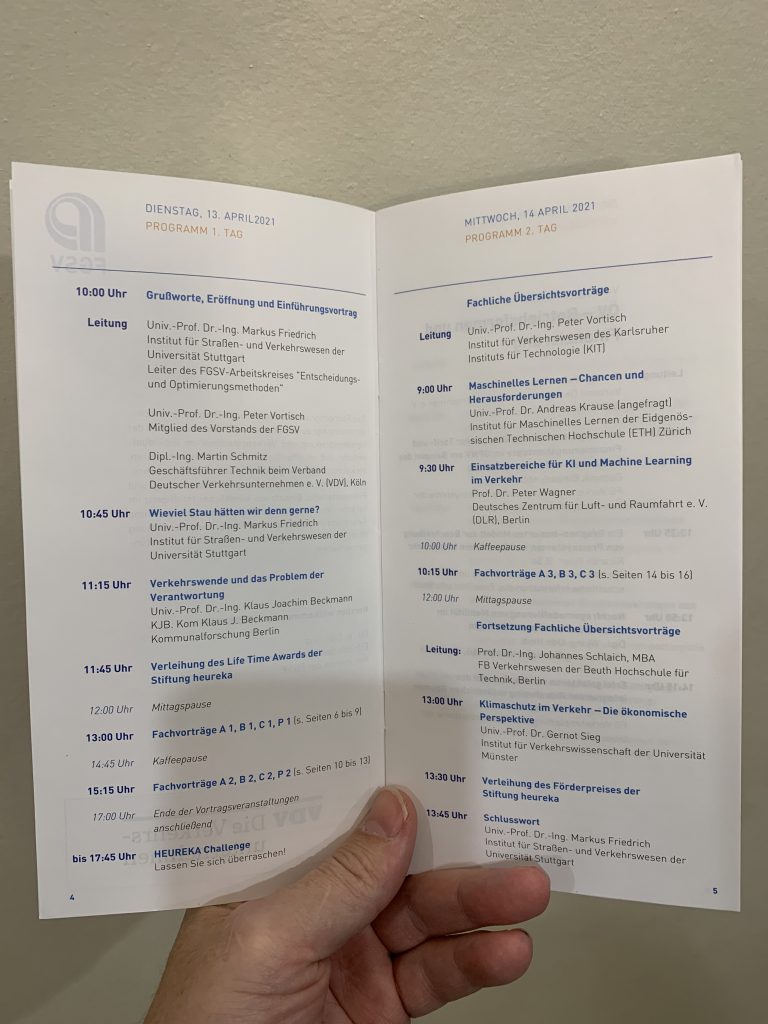

 Доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университет государственной противопожарной службы МЧС РФ Ольга Ложкина рассказала о растущей автомобилизации в больших городах и мерах экологического регулирования, которые могут значительно улучшить ситуацию: «Впервые проблема транспортных выбросов проявилась в США, Европе, Японии в конце 60-ых начале 70-ых городов. Впервые тогда столкнулись с явлением как фотохимический смог, который образуется в результате взаимодействия азона и оксидов азота под воздействием солнечного излучения. Тогда концентрация азота была настолько высока, что привела к преждевременной смертности нескольких тысяч человек. Регулирование этого вопроса на мировой арене началось именно в тот период. В России, в силу особенностей наличия частного транспорта, с этой проблемой впервые столкнулись в 1990-2000 годах. Решение этой проблемы началось в начале 2000 годов, когда в Государственной Думе на парламентских слушаниях было принято решение о прямом введении экологических нормативов европейского союза. В России появился федеральной закон о запрете производства и обороте этилированного автомобильного бензина. Законодательное регулирование является той самой базой, которая стимулирует развитие как технологических, так и инфраструктурных мер. В качестве технологических мер по снижению негативного воздействия автотранспорта можно назвать совершенствование системы смесеобразования и системы нейтрализации отработавших газов ДВС, SRC-технологии обезвреживания отработавших газов дизельных двигателей. Естественно развивается альтернативный подход, и мы наблюдаем активную диверсификацию автотранспортных средств по типу энергоносителей. Активно развивается использование газобаллонных двигателей на сжатом природном и сжиженном газе. С технологической точки зрения весьма перспективно развитие автомобильных двигателей с использованием гибридных двигателей, работающих на водородных топливных элементах. Естественно, это далеко не исчерпывающие технологии, но сейчас человечество идет по пути диверсификации автотранспортных средств по типу энергоносителей. Помимо технологических, безусловно важны инфраструктурные мероприятия. В качестве таких решений можно выделить внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые обеспечивают основу для мониторинга состояния движения и его прогнозирования в будущем. Эти данные должны быть гармонизированы с программным обеспечением и методикой расчета выбросов загрязняющих веществ автотранспортными потоками. Мной было проведено исследование-прогноз загрязнения воздуха в долгосрочной перспективе до 2030 года и анализ негативного воздействия. В ходе исследования было разработано 3 сценария — Базовый, Био и Сценарий 3. Базовый сценарий подразумевал работу автотранспорта только в соответствии с базовыми принципами, сроками внедрения стандартов Евро-3 — Евро-5 на выбросы АТС и качество топлива, при сохраняющейся доле автотранспорта, работающем на альтернативных видах топлива 1,5-3%. Сценарий Био, наряду с базовым сценарием, учитывал дополнительные поддерживающие мероприятия — доведение доли альтернативных видов автотранспортных средств до 30%. При назначении Сценария 3 наряду с базовыми принципами предполагалось постепенное увеличение перевозок общественным транспортом с 5% в 2018 году до 12% в 2030 году относительно базового сценария и пропорциональное сокращение перевозок личным транспортом. С реализацией 1-3 сценариев при прогнозируемом возрастании численности АТС в 1,75 раз к 2030 году, по сравнению с базовым 2010 годом, наибольший экологический эффект может быть достигнут от внедрения более высоких нормативов на выбросы Евро-4 — Евро-6 на всех видах автотранспорта и нормативов на качество моторного топлива Евро-4 — Евро-5. Это могло бы привести к сокращению выбросов парниковых газов в 9 раз, метана до 1,5 раз, загрязняющих веществ CO в 3 раза, летучих органических соединений в 2 раза, аммиака в 1,4 раза, взвешенных частиц в 2 раза. Постепенное доведение доли легковых транспортных средств и автобусов, работающих на сжиженном газе, на сжатом природном газе и на биодизельном топливе, к 2030 году до 30% могло бы привести к уменьшению массы выбросов парниковых газов на 11%, оксида азота на 12%, загрязняющих веществ CO на 7,6%. В долгосрочном перспективе до 2030 года по трем прогнозным сценариям развития автотранспорта наиболее эффективным инструментом (не менее 3,37 млрд рублей в год социального ущерба) является внедрение технологий, удовлетворяющих экологическим стандартам Евро 4 — Евро-6. Дополнительные мероприятия, такие как переход 30% легкового парка и автобусов на альтернативные энергоносители и увеличение перевозок общественным транспортом на 12%, по сравнению с базовым годом, могли бы привести к дополнительному снижению внешних издержек приблизительно на 0, 60 и 0,45 млрд рублей».
Доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университет государственной противопожарной службы МЧС РФ Ольга Ложкина рассказала о растущей автомобилизации в больших городах и мерах экологического регулирования, которые могут значительно улучшить ситуацию: «Впервые проблема транспортных выбросов проявилась в США, Европе, Японии в конце 60-ых начале 70-ых городов. Впервые тогда столкнулись с явлением как фотохимический смог, который образуется в результате взаимодействия азона и оксидов азота под воздействием солнечного излучения. Тогда концентрация азота была настолько высока, что привела к преждевременной смертности нескольких тысяч человек. Регулирование этого вопроса на мировой арене началось именно в тот период. В России, в силу особенностей наличия частного транспорта, с этой проблемой впервые столкнулись в 1990-2000 годах. Решение этой проблемы началось в начале 2000 годов, когда в Государственной Думе на парламентских слушаниях было принято решение о прямом введении экологических нормативов европейского союза. В России появился федеральной закон о запрете производства и обороте этилированного автомобильного бензина. Законодательное регулирование является той самой базой, которая стимулирует развитие как технологических, так и инфраструктурных мер. В качестве технологических мер по снижению негативного воздействия автотранспорта можно назвать совершенствование системы смесеобразования и системы нейтрализации отработавших газов ДВС, SRC-технологии обезвреживания отработавших газов дизельных двигателей. Естественно развивается альтернативный подход, и мы наблюдаем активную диверсификацию автотранспортных средств по типу энергоносителей. Активно развивается использование газобаллонных двигателей на сжатом природном и сжиженном газе. С технологической точки зрения весьма перспективно развитие автомобильных двигателей с использованием гибридных двигателей, работающих на водородных топливных элементах. Естественно, это далеко не исчерпывающие технологии, но сейчас человечество идет по пути диверсификации автотранспортных средств по типу энергоносителей. Помимо технологических, безусловно важны инфраструктурные мероприятия. В качестве таких решений можно выделить внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые обеспечивают основу для мониторинга состояния движения и его прогнозирования в будущем. Эти данные должны быть гармонизированы с программным обеспечением и методикой расчета выбросов загрязняющих веществ автотранспортными потоками. Мной было проведено исследование-прогноз загрязнения воздуха в долгосрочной перспективе до 2030 года и анализ негативного воздействия. В ходе исследования было разработано 3 сценария — Базовый, Био и Сценарий 3. Базовый сценарий подразумевал работу автотранспорта только в соответствии с базовыми принципами, сроками внедрения стандартов Евро-3 — Евро-5 на выбросы АТС и качество топлива, при сохраняющейся доле автотранспорта, работающем на альтернативных видах топлива 1,5-3%. Сценарий Био, наряду с базовым сценарием, учитывал дополнительные поддерживающие мероприятия — доведение доли альтернативных видов автотранспортных средств до 30%. При назначении Сценария 3 наряду с базовыми принципами предполагалось постепенное увеличение перевозок общественным транспортом с 5% в 2018 году до 12% в 2030 году относительно базового сценария и пропорциональное сокращение перевозок личным транспортом. С реализацией 1-3 сценариев при прогнозируемом возрастании численности АТС в 1,75 раз к 2030 году, по сравнению с базовым 2010 годом, наибольший экологический эффект может быть достигнут от внедрения более высоких нормативов на выбросы Евро-4 — Евро-6 на всех видах автотранспорта и нормативов на качество моторного топлива Евро-4 — Евро-5. Это могло бы привести к сокращению выбросов парниковых газов в 9 раз, метана до 1,5 раз, загрязняющих веществ CO в 3 раза, летучих органических соединений в 2 раза, аммиака в 1,4 раза, взвешенных частиц в 2 раза. Постепенное доведение доли легковых транспортных средств и автобусов, работающих на сжиженном газе, на сжатом природном газе и на биодизельном топливе, к 2030 году до 30% могло бы привести к уменьшению массы выбросов парниковых газов на 11%, оксида азота на 12%, загрязняющих веществ CO на 7,6%. В долгосрочном перспективе до 2030 года по трем прогнозным сценариям развития автотранспорта наиболее эффективным инструментом (не менее 3,37 млрд рублей в год социального ущерба) является внедрение технологий, удовлетворяющих экологическим стандартам Евро 4 — Евро-6. Дополнительные мероприятия, такие как переход 30% легкового парка и автобусов на альтернативные энергоносители и увеличение перевозок общественным транспортом на 12%, по сравнению с базовым годом, могли бы привести к дополнительному снижению внешних издержек приблизительно на 0, 60 и 0,45 млрд рублей». 
 Борис Иванов, руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine», НПО «СтарЛайн» рассказал о барьерах внедерения беспилотного транспорта в России: «Сейчас мы наблюдаем действие закона Парето, когда за 20% времени сделали 80% работы, а дальнейшая отладка технологии требует большего времени и больших вложений. Важно понимание развития инфраструктуры для беспилотного транспорта, что происходит в стране и в мире, на какой стадии и куда движется тренд. Интеллектуальные транспортные системы внедряются вне зависимости от беспилотников, что тоже в некотором смысле тормозит процесс полноценного внедрения беспилотного транспорта. Получается, что помимо понятных технологических задач по доработке, мы вступили в огромный пул инфраструктурных и правовых задач и именно в этом сейчас технологические и правовые барьеры. Разработчики ИТС планируют обдумывать внедрение беспилотного транспорта только после внедрения самого ИТС. Сейчас необходимо выяснять и согласовывать требования, чтобы двигаться дальше. Сегодня, момент притирки разработчиков инфраструктуры ИТС и разработчиков беспилотного транспорта тормозит весь процесс».
Борис Иванов, руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine», НПО «СтарЛайн» рассказал о барьерах внедерения беспилотного транспорта в России: «Сейчас мы наблюдаем действие закона Парето, когда за 20% времени сделали 80% работы, а дальнейшая отладка технологии требует большего времени и больших вложений. Важно понимание развития инфраструктуры для беспилотного транспорта, что происходит в стране и в мире, на какой стадии и куда движется тренд. Интеллектуальные транспортные системы внедряются вне зависимости от беспилотников, что тоже в некотором смысле тормозит процесс полноценного внедрения беспилотного транспорта. Получается, что помимо понятных технологических задач по доработке, мы вступили в огромный пул инфраструктурных и правовых задач и именно в этом сейчас технологические и правовые барьеры. Разработчики ИТС планируют обдумывать внедрение беспилотного транспорта только после внедрения самого ИТС. Сейчас необходимо выяснять и согласовывать требования, чтобы двигаться дальше. Сегодня, момент притирки разработчиков инфраструктуры ИТС и разработчиков беспилотного транспорта тормозит весь процесс».

 «Безусловно, строительство ВСЖМ-1 — глобальный и важный для города проект, но мы должны рассматривать его в увязке с Комплексной программой развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации. Новая магистраль окажет влияние на всю транспортную модель города. Она создаст приток в 23 млн. пассажиров к 2030 году. И это станет значительной нагрузкой на транспортную сеть города»
«Безусловно, строительство ВСЖМ-1 — глобальный и важный для города проект, но мы должны рассматривать его в увязке с Комплексной программой развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации. Новая магистраль окажет влияние на всю транспортную модель города. Она создаст приток в 23 млн. пассажиров к 2030 году. И это станет значительной нагрузкой на транспортную сеть города» Максим Фадеев, директор по экспертной работе центра экономики и инфраструктуры рассказал о потенциальном пассажиропотоке на ВСЖМ-1: «Пассажиропотоки — это основа от которой надо отталкивать при разработке финансовый модели проекта, при расчетах потенциальной выручки от пассажирских перевозок. Хочу подчеркнуть, что оценка спроса на пассажирские перевозки производится с учетом всех видов транспорта, но в том числе, помимо ОТ, мы уделяем внимание спросу потоку на личном автомобильном транспорте, поскольку это неотъемлемый элемент рынка перевозок. Первое, что ложится в основу прогнозирования пассажиропотока — существующий спрос и параметры сообщения — время в пути, стоимость проезда, частота сообщения и уровень комфорта транспортных средств. Нами использовались ретроспективные данные, которые мы собирали на протяжении многих лет, и мы продолжаем анализировать текущую ситуацию, учитывая пандемию. Последствия пандемии будут ощущаться на протяжении многих лет, поэтому ситуация с COVID-19 уже закладывается в прогноз будущего спроса. В качестве базовых предпосылок при прогнозировании детально изучался демографический прогноз, прогноз численности населения. На основе этих данных мы сделали прогноз совокупного спроса на пассажирские перевозки в зоне влияния ВСМ-1, а на втором этапе распределяем этот спрос по видам транспорта и вычленяем тот поток, который поедет по ВСЖМ-1. ВСЖМ-1 создаст революцию своего рода — быстрейший вид транспорта, даже по сравнению с авиацией. ВСЖМ создаст уникальную услугу по перемещению пассажиров из центра в центр чуть более чем за 2 часа, что сформирует индуцированный спрос, который нами также оценивается в рамках методики. В будущем мы закладываем консервативный темп роста пассажиропотока и, на период до 2030 года, он прогнозируется на уровне 1,4%. Индуктивный спрос прогнозируется также же консервативно и составляет 8,9% . В доле рынка пассажирских перевозок предполагается, что ВСЖМ-1 займет 55%».
Максим Фадеев, директор по экспертной работе центра экономики и инфраструктуры рассказал о потенциальном пассажиропотоке на ВСЖМ-1: «Пассажиропотоки — это основа от которой надо отталкивать при разработке финансовый модели проекта, при расчетах потенциальной выручки от пассажирских перевозок. Хочу подчеркнуть, что оценка спроса на пассажирские перевозки производится с учетом всех видов транспорта, но в том числе, помимо ОТ, мы уделяем внимание спросу потоку на личном автомобильном транспорте, поскольку это неотъемлемый элемент рынка перевозок. Первое, что ложится в основу прогнозирования пассажиропотока — существующий спрос и параметры сообщения — время в пути, стоимость проезда, частота сообщения и уровень комфорта транспортных средств. Нами использовались ретроспективные данные, которые мы собирали на протяжении многих лет, и мы продолжаем анализировать текущую ситуацию, учитывая пандемию. Последствия пандемии будут ощущаться на протяжении многих лет, поэтому ситуация с COVID-19 уже закладывается в прогноз будущего спроса. В качестве базовых предпосылок при прогнозировании детально изучался демографический прогноз, прогноз численности населения. На основе этих данных мы сделали прогноз совокупного спроса на пассажирские перевозки в зоне влияния ВСМ-1, а на втором этапе распределяем этот спрос по видам транспорта и вычленяем тот поток, который поедет по ВСЖМ-1. ВСЖМ-1 создаст революцию своего рода — быстрейший вид транспорта, даже по сравнению с авиацией. ВСЖМ создаст уникальную услугу по перемещению пассажиров из центра в центр чуть более чем за 2 часа, что сформирует индуцированный спрос, который нами также оценивается в рамках методики. В будущем мы закладываем консервативный темп роста пассажиропотока и, на период до 2030 года, он прогнозируется на уровне 1,4%. Индуктивный спрос прогнозируется также же консервативно и составляет 8,9% . В доле рынка пассажирских перевозок предполагается, что ВСЖМ-1 займет 55%». 
 Исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков рассказал о противостоянии в сфере гостехосмотра: «Сегодня в реестре операторов гостехосмотра 1/3 это независимые станции технического обслуживания. Проблема участия независимых станций состоит в том, что операторами гостехосмотра, действовавшего до 2011 года, СТО рассматриваются как антагонисты. Раньше было такое предположение, что нельзя навязывать услуги по приведению автомобиля в соответствие к требованиям технического осмотра. Мне кажется, что это напускное противостояние. По
Исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков рассказал о противостоянии в сфере гостехосмотра: «Сегодня в реестре операторов гостехосмотра 1/3 это независимые станции технического обслуживания. Проблема участия независимых станций состоит в том, что операторами гостехосмотра, действовавшего до 2011 года, СТО рассматриваются как антагонисты. Раньше было такое предположение, что нельзя навязывать услуги по приведению автомобиля в соответствие к требованиям технического осмотра. Мне кажется, что это напускное противостояние. По